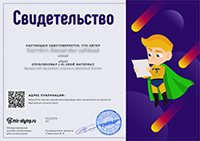Цитатность, интертекстуальность, различные дискурсы в поэме «Москва — Петушки» давали основание многим из ее исследователей относить поэму к постмодернизму. Да и жанровые особенности поэмы подвигали к такой оценке. Ерофеев обращается к характерному для сентименталистской традиции жанру путешествия и своеобразно, соблюдая все формальные параметры этого жанра, трансформирует его в своем произведении. Действительно, мотив путешествия «из — в», названия глав по населенным пунктам, «вехам», плавность перехода от одной главы к другой, многочисленные отступления от основной мысли повествования, большое количество имен, цитат, ссылок — это типологические характеристики жанра путешествия (естественно вспоминаются и Радищев, и Стерн). Но в ерофеевской поэме в прозе географическое пространство путешествия отсутствует совершенно: Карачарово или Дрезна не имеет внешних и отличительных характеристик. Пространственные параметры совершенно особенные в поэме «Москва — Петушки»: пространство мира ощущается через преломление в сознании героя, через муки его души. Сам способ повествования в поэме — внутренне диалогизированный монолог — побуждает нас воспринимать жанровую природу этого произведения не только в границах жанра путешествия, но и жанра исповеди. Способ повествования и личность центрального героя, как, впрочем, и тема пьянства, несомненно связывают текст поэмы Вен. Ерофеева с миром Достоевского.
(Сушилина И.К. )
Способ организации повествования, который, как и подчеркнуто подзаголовком “поэма”, отличается от обычного прозаического сразу по многим параметрам. Среди них едва ли не первое место занимает ориентация на русскую (но также и на классическую зарубежную, вошедшую в сознание русского читателя как интимно своя) поэзию не только как на источник отдельных образов и словесных формул, но и как на образец целостного воспроизведения реального мира, преображаемого в мир художественный. Очевидно, по крайней мере, дважды Ерофеев строит отдельные фрагменты своего повествования как полное подобие (и на словесном, и на композиционном, и на образном, и даже на смысловом уровнях) стихотворениям двух неофициальных для того времени классиков русской поэзии.
Способ организации повествования, который, как и подчеркнуто подзаголовком “поэма”, отличается от обычного прозаического сразу по многим параметрам. Среди них едва ли не первое место занимает ориентация на русскую (но также и на классическую зарубежную, вошедшую в сознание русского читателя как интимно своя) поэзию не только как на источник отдельных образов и словесных формул, но и как на образец целостного воспроизведения реального мира, преображаемого в мир художественный. Очевидно, по крайней мере, дважды Ерофеев строит отдельные фрагменты своего повествования как полное подобие (и на словесном, и на композиционном, и на образном, и даже на смысловом уровнях) стихотворениям двух неофициальных для того времени классиков русской поэзии.
(Николай Богомолов “Москва-Петушки”:
историко-литературный и актуальный контекст)

С момента своего создания поэма Вен. Ерофеева провоцировала двоякие комментарии текста. Одни видели и видят в ней алкогольную поэму, другие выделяли иные, более сложные в семантическом аспекте системы, представленные в ее тексте.
Парадокс заключается в том, что оба лексических пласта как алкогольный, так и библейский крайне узко представлены в тексте. Из более чем 35 тысяч лексем слова, принадлежащие к обоим пластам употребляются всего лишь 1068 раз (чуть более 3 %). Таким образом, мы видим, что вся поэма написана нейтральной, стилистически и коннотативно немаркированной лексикой.
(Г. С. Прохоров. Библейский прототекст в поэме
Вен. Ерофеева «Москва–Петушки» Коломна)


Книга Вен. Ерофеева напоминает травестийное житие со всеми его атрибутами: одиночеством, верой, бесами, ангелами, Богородицей, устремлением к Богу. Сравнение же с «Мертвыми душами», на которое наталкивает авторское обозначение жанра произведения — поэма, оправдано лишь в обратном понимании: у Гоголя живой человек покупал мертвые души, у Вен. Ерофеева мертвые души «покупают» живую, но так и не добиваются своего. Вен. Ерофеев «нейтрализовал» современную прозу, посмеялся над ее напыщенностью грубым смехом грузчика и монтажника.
(Кавадеев А. Сокровенный Венедикт )

Веничкины состояния: «похмеление», «алкогольная горячка», «смерть» — пародируют (профанируют) Страсти Господни. Страсти Христа — это крестный путь, распятие на кресте и смерть. Однако пародия Вен. Ерофеева не похожа ни на богохульства атеиствующих, ни на «кощунственные» интерпретации библейских сюжетов у постмодернистов.
(Наталья Верховцева-Друбек)

«Москва — Петушки» — произведение, известное во всем мире, бестселлер самиздата и тамиздата, яркое явление «другой» русской культуры. Это исповедь российского алкоголика, оказывающаяся далеко не частной исповедью советского андерграунда. Истоки поэмы восходят к традиции так называемой низовой культуры, устного народного творчества (анекдоты, частушки, эпиграммы в духе черного юмора), где сатира породнилась с «нелегальщиной». В этом отношении поэма «Москва — Петушки» близка к настоящему времени поэма переведена на тридцать языков мира.
( Чупринин С. Безбоязненность искренности)

Поэма «Москва — Петушки» продолжает ряд произведений русской литературы, в которых мотив путешествия реализует идею правдоискательства («Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева, «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова, «Чевенгур» Платонова и др.). Она воскрешает восходящую к Козьме Пруткову, А. К. Толстому, позднему Салтыкову-Щедрину традицию использования так называемой противоиронии, являющейся важнейшим качеством ерофеевского художественного сообщения. Противоирония — это бывшая российская ирония, перекошенная на всероссийский, так сказать, абсурд, а лучше сказать — порядок. Перекосившись, она начисто лишается гражданского пафоса и правоверного обличительства. Противоирония, черный юмор — стилевая доминанта поэмы, метафористика которой многими не прочитывается.
(Интерпретация Владимира Муравьева)

В поэме «Москва — Петушки» нашла своеобразное преломление традиция карнавальной культуры, столь популярная в эти годы у советской интеллигенции благодаря книге Михаила Бахтина «Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса», интерпретировавшейся, в оппозиционном духе. Своего рода современным заменителем карнавала оказывается в поэме алкоголь. Раблезианские масштабы питейных подвигов, сквернословие и т. п. создают на страницах поэмы стихию универсального, свободного и связанного с «неофициальной народной правдой» смеха, который так выразительно описал Бахтин. Но смех «Москвы — Петушков» не победителен и не перекрывает присущего произведению трагизма, побуждающего вспомнить «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева. Идиллическим мифам официальной пропаганды Вен. Ерофеев противопоставляет чудовищно-гротескную картину спившейся страны.
(Интерпретация Андрея Зорина)

По своей литературной сути «Москва — Петушки» — фантастический роман в его утопической разновидности. Вен. Ерофеев создал мир, в котором трезвость — аномалия, пьянство — закон, а Веничка — пророк его. Веничка пришел в мир, чтобы промыть его заплесневевшие глаза коктейлем «Слеза комсомолки», чтобы одухотворить бездуховность бытия измышленным пьяным миром.
(Интерпретация
Петра Вайля и Александра Гениса)

Поэма Вен. Ерофеева кратка и цельна благодаря цельности и осязаемости авторского взгляда на мир, как бы передоверяемого альтер эго (экзистенциальному двойнику) писателя, от лица которого осуществляется повествование. Своеобразие альтер эго определяет обращение к культурной традиции русского юродства, восходящей к древнерусской словесности, многократно усиленной Достоевским, продолженной Розановым и Ремизовым. С этой точки зрения проясняются многие загадки ерофеевской поэмы («самоизвольное мученичество» и священное безумие героя-юродивого, двуликость Венички как шута и страдальца, художественный смысл пьянства и др.), в произведении оказывается возможным видеть перифраз Евангелия Юродского, сдвинутого. Позиция юродивого у Вен. Ерофеева как бы соединяет традицию русской классики с ее духовным учительством и безудержную игру постмодернизма, открывая большие возможности для обновления литературы.
(Интерпретация Марка Липовецкого)

Ерофеев ни к чему не зовет. Захватывает только его стиль, поразительно совершенный словесный образ гниющей культуры. Это не в голове родилось, а — как ритмы «Двенадцати» Блока — было подслушано. У Блока — стихия революции, у Ерофеева — стихия гниения. Ерофеев взял то, что валялось под ногами: каламбуры курительных комнат и бормотанье пьяных, — и создал шедевр. С одной стороны, отталкивает авторская позиция — сдача на милость судьбе, стремление быть «как все», добровольное погружение в грязь, паралич воли. С другой — потрясает пафос, который можно назвать старыми словами: «срывание всех масок». И энергия бунта: хоть в канаву, но без вранья... И еще: написанное звучит эпитафией по тысячам и тысячам талантливых людей, которые спились, потому что со своим чувством правды в атмосфере всеобщей лжи были страшно одиноки.
(Интерпретация Григория Померанца )
Вен. Ерофеев создал, подобно поэтам, свой собственный образ, в котором вымысел и реальность сплавлены воедино. В этом смысле «Москва — Петушки» не просто по названию поэма, но и вполне лирическое произведение. И в то же время писатель не успел до конца воплотиться, реализоваться, и народная молва подхватила и дальше понесла то, что он не успел или не захотел о себе рассказать. В некоторых отношениях миф о Вене своими общими очертаниями совпадает с есенинским мифом, мифом Владимира Высоцкого и даже Николая Рубцова. Проступает в нем «архетип» юродивого. Но в центре Вениного мифа — деликатность, редчайшее и еще почти не обозначенное свойство в русской культуре. Это как бы «потусторонняя» деликатность, воскресающая в чаду «разночинства, дебоша и хованщины». Феномен Венички, вырастая из пантагрюэлизма, перерастает его, карнавал сам становится объектом карнавала, выводящим в область новой, странной серьезности, боящейся что-то вспугнуть и непоправимо разрушить. Он сигнализирует об усталости XX века от собственных сверхэнергий, чреватых катастрофами и безумиями.
(Интерпретация Михаила Эпштейна)

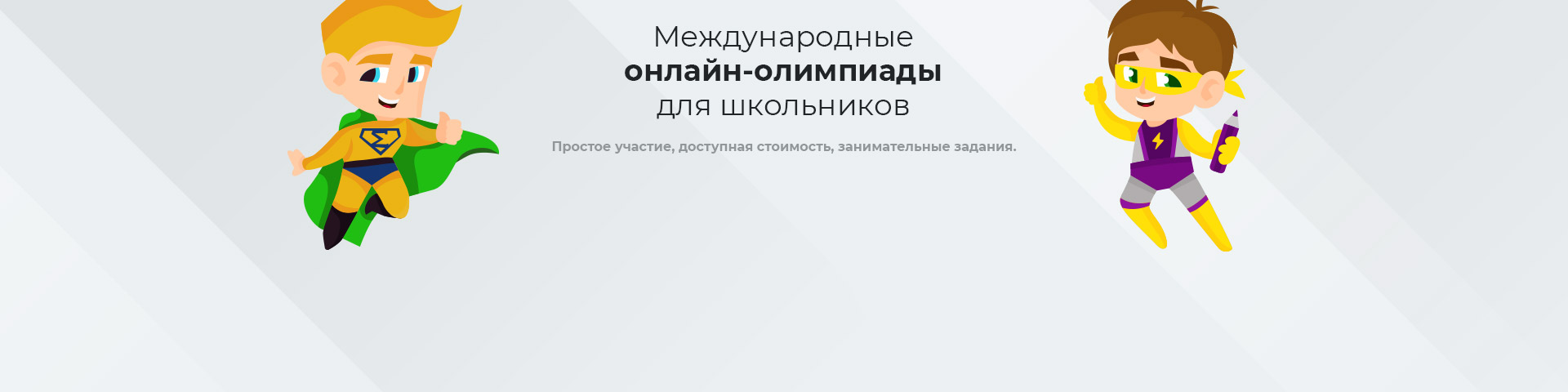
 1223
1223 61
61 Ерофеев Венедикт "Москва-Петушки"
Ерофеев Венедикт "Москва-Петушки"